
«Короче, Склифосовский!» Российский хирург совершил революцию в медицине. Что ему пришлось пережить ради этого?
11:06, 25 августа 2025Виртуозный хирург, сделавший тысячи операций на полях сражений четырех европейских войн, ученый, внесший огромный вклад в отечественную и мировую медицинскую науку, учитель Антона Чехова, блестящий организатор здравоохранения, создавший лучший в мире университетский лечебный комплекс, ставший впоследствии Первым мединститутом имени И. М. Сеченова... Все это о Николае Васильевиче Склифосовском. О выдающемся российском враче, ученом и педагоге «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».
Имя русского хирурга Николая Васильевича Склифосовского известно каждому россиянину. Еще бы! Кто не слышал о знаменитом Склифе — Московском НИИ скорой помощи. Склиф — первая ассоциация, приходящая на ум, когда речь заходит об экстренной медицинской помощи. И если сегодня в интернет-поисковике сделать запрос «Склифосовский», то на нескольких страницах появится информация не о замечательном враче и ученом, а упоминания о телесериале с аналогичным названием, рассказывающем о «сложных, драматических, подчас героических буднях врачей главного института скорой помощи».
Между тем Институт Склифосовского к жизни и деятельности Николая Васильевича не имеет ни малейшего отношения. По справедливости, его имя должен был бы носить Первый Московский государственный медицинский университет, который был задуман, построен и открыт именно его стараниями. Но Первый мед носит имя И. М. Сеченова, который медицину не любил и получил мировую известность как физиолог и естествоиспытатель.
А еще широко известна крылатая фраза из культовой кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница».
— Короче, Склифосовский! — требует Балбес (Юрий Никулин) и тут же получает хорошую дозу снотворного в пятую точку. В устной речи так обычно говорят, если хотят оборвать пространные рассуждения собеседника и перейти к сути дела. Неисповедимы пути любви и славы народной.
На казенном попечении
Николай Васильевич Склифосовский родился 6 апреля (25 марта) 1836 года на хуторе Карантин, недалеко от тихого провинциального городка Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской губернии. Нынче это место относится к самопровозглашенной Приднестровской Республике.
По семейной легенде, фамилия Склифосовский произошла от греческой Склифос и, по всей видимости, предками будущего знаменитого хирурга по отцовской линии были греки. Девичья фамилия матери — Платонова.
Василий Павлович Склифосовский был потомственным дворянином, но поместья не имел, а на государственной службе занимал скромную должность письмоводителя.
Карантином местечко называлось неслучайно. В конце XVIII века граница между Российской империей и турецкими землями проходила по реке Днестр, а единственный в ту пору брод находился у Дубоссар. Там же располагались пограничный переход, таможенный пункт и карантинный пост.
Эпидемии тяжелых инфекционных болезней: чумы, холеры, оспы, тифа чаще всего приходили на российские земли с юга, поэтому карантинный пост был необходим. Пересекавшие границу должны были провести в изоляции 6, а во время подтвержденной эпидемической опасности — 16 дней. Здесь же находился инфекционный госпиталь.
Василий Павлович служил на карантинной станции, но медиком он не был. В многодетной семье родилось 12 детей, сколько из них выжило — неизвестно. Коленька был девятым.
Мемуаров или воспоминаний о ранних годах Николай Васильевич не оставил. Все, что мы знаем об этом периоде его жизни, — из записок дочери Ольги, адресованных ее детям и внукам.
В частности, Ольга Николаевна рассказывает о пожаре, в котором восьмилетний Коленька едва не погиб:
Дом был деревянный под соломенной крышей и горел как свечка. Мать, собирая детей, хватилась, что младшего мальчика нет. Она бросилась к окну, около которого стояла кроватка, схватила его сонного, и в ту минуту, как она его вытаскивала в окно, потолок комнаты рухнул
Страх перед пожарами остался у Склифосовского на всю жизнь.
В 1846 году Днестровский карантин упразднили, отец потерял работу. Еще раньше умерла долго болевшая мать. Прокормить и поставить на ноги всех детей отец-одиночка был не в силах. И тогда он принял трудное, но, как оказалось, абсолютно верное решение — отправить 12-летнего Колю в сиротский дом.
Приют, в котором Коля Склифосовский провел следующие шесть лет, находился в Одессе — главном черноморском порту империи. Через Одессу шла оживленная морская торговля России. Красивый и богатый город на всю страну славился своей благотворительностью. Приютские дети были прикреплены к 2-й мужской гимназии. Особого досуга у них не было, поэтому все время они тратили на учебу, включая изучение латыни, что впоследствии очень пригодилось.
Учился Николай прилежно. Гимназию окончил одним из лучших с серебряной медалью, которая давала право на поступление в любой университет империи. Отец к тому времени умер, а с братьями и сестрами Склифосовский давно уже всякую связь утратил. Решение оставалось за ним, и он выбрал медицину. Профессия врача была востребована и давала твердый доход.
Успешно сдав экзамены, 19-летний Николай Склифосовский был зачислен на бюджетное отделение медицинского факультета Московского университета. Стипендию во время всего обучения ему, как бывшему воспитаннику сиротского приюта, платил Одесский приказ общественного призрения. Кроме того, будущему студенту выделили денег не только на дорогу, но и на первоначальное устройство.
Школа, практика и талант
Медицинское образование в Российской империи было на достаточно высоком уровне, это признавали и зарубежные медики. На медицинском факультете Императорского московского университета имелось 11 кафедр и множество предметов. Так, к примеру, на кафедре Государственного врачебноведения имелись следующие предметы: судебная медицина, гигиена, медицинская и ветеринарная полиция, врачебное законоведение.
Одесская гимназия оказалась вполне состоятельной. Трудный курс анатомии в университете читали на латыни, которую большинство студентов, в отличие от Склифосовского, совсем не знали.
На первой в жизни операции с будущим великим хирургом произошел казус.
Когда больному сделали разрез, он дико закричал. Брызнула кровь. «Успех операции зависит от скорости ее выполнения, — объяснил профессор, орудуя скальпелем. — Тем более если больной плохо переносит боль». От воплей оперируемого и вида крови у студента Склифосовского потемнело в глазах, и он рухнул на пол
В будущем Николаю Васильевичу предстояло провести тысячи сложнейших операций и никогда, делая разрез, его рука не дрожала. Но первый опыт нередко бывает и таким. О собственных «обморочных впечатлениях» на первой в жизни операции вспоминал впоследствии не один замечательный врач.
В 1859 году 23-летний Николай Склифосовский получил диплом с отличием. Ему предложили остаться на хирургической кафедре, чтобы затем защитить диссертацию. Но помня, какую роль в его жизни сыграла Одесса, молодой врач вернулся в город, так много для него сделавший, и поступил на место клинического ординатора. Именно одесская городская больница стала школой, где росло и оттачивалось мастерство Склифосовского-хирурга.
Для того чтобы добиться большого успеха в любом деле, нужна триада: школа, постоянная практика и талант. Московский университет дал Склифосовскому лучшую в России профессиональную школу. Одесская клиника, где он работал в режиме 24 на 7, — огромную и разнообразную практику. Талант же был несомненным
Хирургом Склифосовский был от Бога. Прекрасное знание анатомии человека, интуиция и легкая рука позволяли ему успешно проводить сложнейшие операции, на которые до него никто не решался. Хирургия — это ремесло, и Николай Васильевич владел им безупречно. Но он был не просто прекрасным ремесленником, а настоящим ученым. Постоянно собирая и обобщая научный материал, он делал его всеобщим достоянием.
Десятки научных статей молодого хирурга привлекали внимание новизной и эффективностью решений даже самых рутинных проблем, а научная обоснованность, точность описаний и формулировок делали их исключительно ценными для практики.
В 1863 году Склифосовский защищает докторскую диссертацию «О кровяной околоматочной опухоли». В то время гинекология еще не была выделена в отдельную дисциплину и считалась частью хирургии, высокая же смертность женщин после родов делала тему научной работы исключительно актуальной.
Одновременно с научным и прикладным значением защита диссертации давала гарантию благосостояния и финансовой независимости. Даже в государственных больницах доктор медицины получал не менее 125 рублей жалования в месяц. Для сравнения — месячное путешествие по Европе в то время обходилось в среднем в 100 рублей.
За шесть лет работы в Одессе Склифосовский приобрел огромный практический и научный опыт. Его работы получили известность. После защиты диссертации он возглавил хирургическое отделение городской больницы, но нужно было двигаться дальше. Для врача, мечтающего о научной карьере, стажировка в европейских клиниках считалась обязательной. И не потому, что русские врачи были хуже, организация здравоохранения в Западной Европе стояла на значительно более высоком уровне.
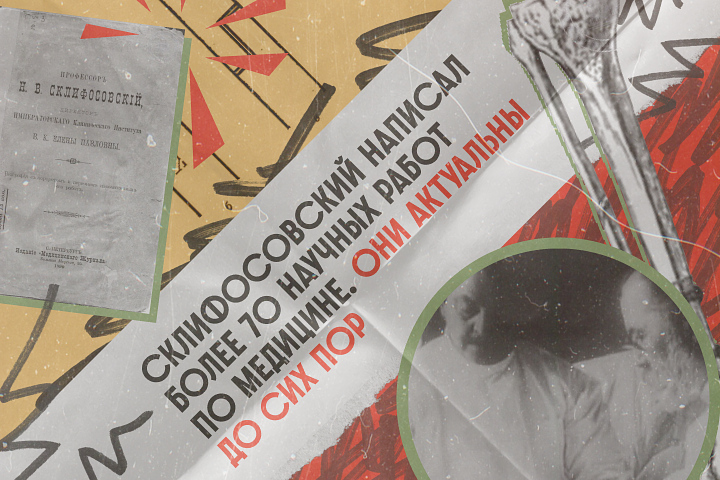
Запрос на заграничную стажировку в Министерстве народного просвещения в Санкт-Петербурге был решен положительно. Получив командировочные талеры, Николай Склифосовский отправился в Берлин, затем в Париж и, наконец, в Англию и Шотландию.
На острие скальпеля медицинской науки и практики
Следует сказать, что медицина второй половины XIX века стояла на низком старте эпохи великих перемен. Сотни лет она фактически топталась на месте, ограниченная скудными знаниями и многочисленными запретами.
Научные открытия XIX века и в еще большей степени социальный прогресс общества дали возможность медицине совершить мощный рывок вперед. Как это происходило в эпоху великих географических открытий: в какую бы сторону не пошел отважный путешественник, он открывал неизвестные ранее острова, а то и целые континенты. Так было теперь и в медицине, давно уже заждавшейся своих Магелланов и Колумбов. Нужно было всего лишь обладать пытливым умом, настойчивостью и иметь смелость принимать открытия, полностью менявшие привычные представления об окружающем мире. Всеми этими качествами в полной мере обладал наш герой.
Николаю Склифосовскому выпала судьба не только жить во времена становления современной медицины, но принять в этом самое активное и плодотворное участие
Научная стажировка длилась около двух лет (1866-1867 годы). В Берлине Склифосовский учился у знаменитого профессора Рудольфа Вирхова, чья теория клеточной патологии стала основой научного мышления врачей на годы вперед. Там же стажировался у основателя немецкой хирургической школы Бернгарда Лангенбека — самого быстрого хирурга своего времени.
В Париже — в клиниках Французской медицинской академии у знаменитого хирурга и уролога профессора Огюста Нелатона. Из Франции Склифосовский привез новые медицинские инструменты, включая пуговичный зонд для ревизии раневых каналов и мягкий урологический катетер.
В Эдинбурге работал с Джеймсом Симпсоном, впервые использовавшим хлороформ в качестве наркоза. Первую девочку, рожденную под хлороформной маской, окрестили Анестезией. В Глазго Склифосовский познакомился с основами теории антисептики и асептики Джозефа Листера, совершенно неизвестными тогда науке и ставшими главным прорывом в хирургии нового времени.
Ко времени заграничной командировки относится и первый опыт Склифосовского в военно-полевой хирургии. Летом 1866 года началась Австро-прусская война. Бисмарк стремился объединить раздробленную Германию в единое государство. Вирхов и Лангенбек немедленно вступили в прусскую королевскую армию в качестве военных врачей. Вслед за ними последовал и Склифосовский, получивший соответствующее разрешение в российском посольстве.
Формально Российская империя соблюдала нейтралитет, на деле же царь Александр II не простил австрийцам их поведения во время Крымской кампании. Война длилась недолго – немцы разбили австрийцев в Богемии. Помимо убитых, у прусаков было 13 тысяч раненых, у их противников вдвое больше. Врачи оказывали помощь и тем, и другим.
Раненый неприятель перестает быть неприятелем, а делается товарищем, который нуждается в нашей помощи
Опыт, полученный русским хирургом в этой войне, пригодится ему еще не раз. Склифосовский многому научился во время зарубежной стажировки, но и сам многому научил иностранных коллег. Российской медицине было чем удивить Европу, а русские медики уже со времен Николая Пирогова перестали быть только благодарными учениками.
Две свадьбы и похороны
В 1867 году Склифосовский вернулся в Одессу: оперировал, вел научную работу, регулярно печатал статьи в медицинских журналах. В том же году он женился на Елизавете Григорьевне Морган. За четыре года брака в семье родились трое детей.
В 1868 году Склифосовский был произведен в надворные советники и награжден орденом Святой Анны 3-й степени. А в начале 1870 года Николаю Васильевичу пришло приглашение возглавить кафедру хирургии на медицинском факультете Императорского Киевского университета.
Карьера ученого и врача шла по восходящей. Он был счастлив в семейной жизни. И тут его подкараулило большое горе. В СССР была популярна шутка: все что-то тащат с работы, вот и медики приносят домой — кто корь, кто грипп, а кто и посерьезнее.
Потерю близких из-за инфекционных болезней, принесенных с работы, пережили многие известные врачи: Пирогов, Боткин, Мечников. Не миновала скорбная учесть и Склифосовского
В отделение хирургии, которым он руководил, попал тифозный больной, и Николай Васильевич от него заразился. Доктор перенес заболевание достаточно легко, а вот его супруга с болезнью не справилась. Ей исполнилось всего 24 года.
Известно, что после смерти жены Мечников пытался покончить с собой. Искал смерти и Склифосовский. Иначе как объяснить, что, оставив трех маленьких детей на попечение гувернантки, будучи не военнообязанным, он вновь отправился на чужую войну. На этот раз на Франко-прусскую. В качестве полкового врача он организовывал медицинскую помощь раненым и лично их оперировал.

Война длилась недолго. Вернувшись домой, Николай Васильевич застал там полный порядок. Софья Александровна фон Шильдер-Шульднер — прекрасная пианистка, дочь статского советника из богатого и известного дворянского рода вряд ли нуждалась в деньгах, поступая в гувернантки к известному доктору. Скорее, она хотела добиться признания и независимости. В ней Склифосовский неожиданно нашел не только верную подругу, но и помощницу в работе.
Свадьба состоялась через год. В качестве свадебного подарка Николай Васильевич отписал супруге только что приобретенное имение Яковцы в Полтавской губернии. Усадьбу в Яковцах назвали «Отрада». В новом браке родились четверо детей.
С Киевом у Склифосовского были связаны тяжелые воспоминания. И как только появилась возможность, он перебрался в столицу. Со значительным повышением. В Санкт-Петербурге Николай Васильевич получил кафедру хирургической патологии и терапии Медико-хирургической академии. А так как уже имел значительный военно-медицинский опыт, то одновременно возглавил хирургическое отделение Второго военно-сухопутного госпиталя. Вскоре по его же инициативе был создан Институт полевых хирургов, целью которого стала подготовка врачей к работе в военно-полевых условиях. Что оказалось весьма своевременно.
«Чашечка крепчайшего кофе и несколько глотков вина»
В 1876 году в Боснии и Герцеговине началось восстание против турецкого владычества. В военные действия втянулись Болгария, Сербия, Черногория… И вскоре пламя войны уже пылало по всем Балканам. Российское общество открыто симпатизировало братьям славянам, но империя, наученная горьким опытом Крымской войны, сохраняла нейтралитет. Впрочем, это не мешало тысячам российских добровольцев отправиться на Балканы.

В составе Российского Красного Креста (РКК) на новый театр боевых действий отправился и военный хирург Склифосовский. Собственной военно-медицинской службы у братьев славян не существовало, и вся тяжесть работы с ранеными легла на плечи российских добровольцев.
Именно в Черногории хирург изобрел легендарный «замок Склифосовского», или «русский замок», как его принято называть во всем мире, — особое соединение костей при переломах.
Плохо организованные и кое-как вооруженные сербы и черногорцы терпели одно поражение за другим. От полного уничтожения их спасло лишь вмешательство российского императора. Было заключено перемирие, но все понимали, что новая война близко и Российская империя будет в нее втянута. Так и произошло.
Русско-турецкая война, начавшаяся 12 апреля 1877 года, стала для Николая Васильевича уже четвертой, самой продолжительной и тяжелой. В качестве ведущего хирурга русской армии Склифосовский участвовал в «плевнском сидении» — осаде турецкой крепости Плевна на территории Болгарии в июне-декабре 1877 года и героической обороне Шипки.
Во время ожесточенных сражений ему приходилось оперировать по четверо суток без отдыха и почти без сна, подбадривая себя «чашечкой крепчайшего кофе или несколькими глотками вина», которые подносила супруга, сопровождавшая его на фронте. Он лично, своими руками, прооперировал несколько тысяч человек. Нередко под пулями
Но еще более важной была работа по организации медицинской службы. Войны приобретали все более массовый характер, и количество раненых увеличивалось многократно. Нужны были новые принципы оказания помощи. Они постепенно формировались, и российский врач внес в этот процесс огромный вклад. Лечение пострадавших в бою он начинал с сортировки.

«Сортировка раненых на главном перевязочном пункте — есть самый существенный вопрос», — указывал Склифосовский в рекомендациях военным врачам. Всех раненых он разделил на четыре категории по степени тяжести, что позволило своевременно оказывать им необходимую и неотложную помощь.
Во время Великой Отечественной войны принципы сортировки и эвакуации раненых при оказании им первой помощи спасли сотни тысяч жизней. Также одним из первых Склифосовский стал применять в полевых условиях принципы асептики и антисептики. Опыт Русско-турецкой войны он обобщил и изложил в целом ряде научных работ, значительно изменивших военно-полевую медицину.
Заслуги врача были высоко оценены. Склифосовский был награжден орденами Святого Владимира 2-й степени с мечами и Святого Владимира 3-й степени. А также произведен в звание генерала военно-медицинской службы.
Большой человек против мелких тварей
Война закончилась. Склифосовский вернулся к практической, научной и преподавательской работе. В 1880 году ему предложили возглавить кафедру хирургии Императорского Московского университета (ИМУ), и он с радостью принял это предложение. В том же году он был избран деканом ИМУ.
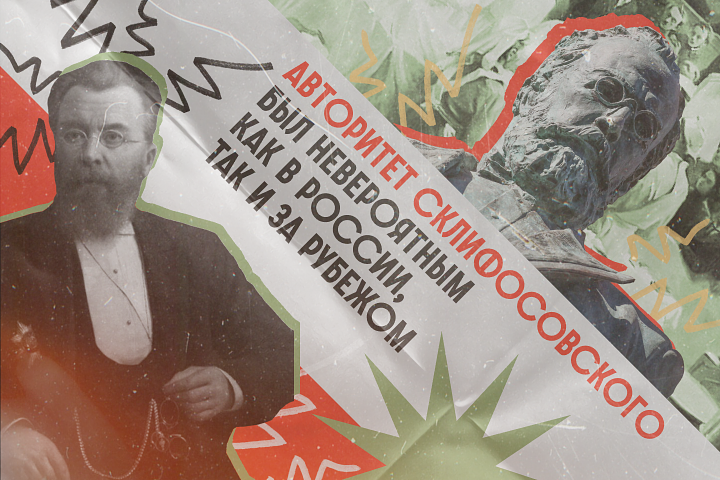
Сегодня в это трудно поверить, но в конце XIX века, названного веком просвещения, практикующие хирурги не имели даже малейшего представления о стерильности, асептике и антисептике. Одним и тем же скальпелем вскрывали гнойные нарывы и проводили полостные операции, лишь слегка промыв инструменты теплой водой. Использованные бинты и марлю бросали на пол, чтобы после стирки использовать вновь. Шовный материал мог лежать на подоконнике, а прежде чем подать нитку хирургу, ассистент ее слюнявил.
Медицинский персонал элементарно не мыл руки, не менял фартуки и халаты, деревянные столы операционных были насквозь пропитаны гноем и кровью. Неудивительно, что послеоперационная смертность достигала 80 процентов.
О существовании микробов было известно, но ситуация никак не менялась. Исходя из научных познаний своего времени и личного опыта, Склифосовский начал активно внедрять принципы асептики и антисептики в повседневную практику. Использованный перевязочный материал сжигали, инструменты кипятили, а для дезинфекции помещения применяли хлорку и раствор карболовой кислоты.
Хирургов Николай Васильевич заставлял по несколько раз за операцию тщательно мыть руки. Кто-то из коллег считал эти меры чудачеством, кого-то они злили.
Видный хирург Ипполит Корженевский иронизировал:
Удивительно, что такой крупный человек, как Склифосовский, так боится столь мелких творений, как бактерии, которых он и сам не видит
Однако Склифосовский упорно гнул свою линию. Деревянные столы были заменены металлическими, хирургические инструменты стал использовать хромированные и полированные. Операционные и перевязочные помещения начали принимать привычный нам вид. Результат не заставил себя ждать. Резко снизилось количество инфекционных осложнений и послеоперационная смертность. Появилась возможность проведения ранее невозможных сложных полостных операций. Постепенно исчезал панический ужас больных перед хирургией.
Клинический городок на Девичьем поле
Богатая купеческая Москва с вековыми традициями благотворительности дала возможность Склифосовскому реализовать давно задуманный им проект создания большого многопрофильного учебно-медицинского центра. Генеральский мундир и слава героя Плевны и Шипки весьма этому способствовали.
Медицинский факультет ИМУ не имел своей клинической базы. Обучение будущих врачей было исключительно теоретическим, и многие из них встречали своего первого больного, уже получив медицинский диплом.
Склифосовский убедил чиновников Московской городской думы в необходимости создания университетских клиник, которые будут обслуживать горожан и одновременно станут учебными и научными клиническими базами университета.
а также бесплатно передал большой участок земли на Девичьем поле
Земля в Москве уже тогда была очень дорогая. Еще примерно столько же пожертвовали на строительство клиник состоятельные москвичи. Всего 37 благотворителей.
Городом было поставлено три условия: общее число коек — не менее 600, во время летних каникул клиники будут продолжать свою работу и строительство должно занять не более 5 лет.
Сверх того, 300 тысяч на строительство психиатрической больницы и особняк на Девичьем поле пожертвовала известная благотворительница Варвара Морозова.

Жесткие сроки заставили Склифосовского отказаться от архитектурного конкурса. Проектирование было поручено известному московскому зодчему, поклоннику итальянского ренессанса Константину Быковскому. Быковский и известные профессора Снегирев (гинекология) и Эрисман (гигиена) были отправлены в командировку для знакомства с опытом европейской медицинской архитектуры. Они посетили Мюнхен, Цюрих, Берн, Страсбург, Гейдельберг, Лейпциг, Галле, Берлин, Париж, Санкт-Петербург и сделали заключение:
Все очень интересно, но ничего копировать мы не будем, ибо то, что мы хотим создать, — лечебно-научно-учебное заведение — нигде в мире не существует
Всего в Клиническом городке на Девичьем поле было построено 18 зданий, включая два храма и общежитие для студентов. 12 из них спроектировал Быковский. Через весь комплекс прекрасных архитектурных сооружений протянулась Аллея жизни, берущая начало с родильного отделения и церкви, где крестили новорожденных, и заканчивающаяся отделением патологической анатомии, моргом и церковью, в которой отпевали тех, помочь кому медицина оказалась бессильна.
Лечебницы Клинического городка стали лучшими в Европе. Просторные светлые палаты с большими окнами, выходящими на юг, ванные комнаты, водопровод, электричество, телефон, отдельный кухонный корпус, удобные аудитории для студентов, квартиры для персонала — все было наилучшим образом продумано и исполнено.
Кстати, одним из студентов Клинического городка, слушавшим лекции Николая Васильевича Склифосовского, был будущий земской врач и великий русский писатель Антон Павлович Чехов.
Между хирургическим и терапевтическим корпусами в 1897 году был открыт памятник Николаю Ивановичу Пирогову. Разрешение на памятник Склифосовский испросил у Александра III. Отказать боевому товарищу по Шипке и Плевне император, конечно же, не мог.
Памятник Пирогову стал важной достопримечательностью Клинического городка. По студенческой примете, чтобы успешно сдать экзамен, нужно потереть череп, который профессор Пирогов держит в левой руке. А по окончании летней сессии ночью памятник обряжают в медицинский халат, шапочку и обматывают бинтами.
После революции ИМУ был переименован в МГУ и стал готовить врачей для Советской Республики. В 1930 году медицинский факультет вывели из состава Московского государственного университета, присвоив ему статус Первого московского медицинского института. В 1955 году Первому меду присвоили имя выдающегося российского физиолога И.М. Сеченова. В 1990 году 1-й ММИ стал Московской медицинской академией имени И.М. Сеченова, а в 2010 году — Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова. В этом статусе он существует и сегодня.
