
«Увидели перед собой гения» Александр Скрябин взломал код Вселенной с помощью музыки. Как он сумел сделать это первым?
11:17, 15 августа 2025Поверить в то, что такое возможно, в начале ХХ века не мог почти никто, и тем не менее композитора Александра Скрябина было не остановить. Он знал, что звук может быть выражен не только нотами, но и цветом, и в этом опередил свое время на десятки лет. Его философские идеи, которыми сопровождалось каждое произведение, остаются прогрессивными по сей день. Какой была жизнь этого удивительного человека, рассказывает материал «Ленты.ру» из цикла «Жизнь замечательных людей».
Он писал как одержимый. Пальцы, распухшие от бесчисленных ударов по клавишам, теперь лихорадочно чертили ноты на бумаге. Пятая соната родилась за считаные дни — за нее Скрябин, словно неспособный сбросить скорость несущийся сквозь атмосферу болид, взялся сразу после окончания масштабной «Поэмы экстаза». Татьяна, его любовь, боялась нарушить священный ритуал творчества, но про себя изнывала от боли. «Бедный Саша… Он сожжет себя», — жаловалась она подруге.
Однако когда последний аккорд был поставлен, Татьяна заговорила иначе: «Чудо, это же чудо! Я не могу поверить своим ушам!»
Скрябин молчаливо соглашался: это действительно было чудо, как и все, что выходило из-под его пера. Новая соната — не просто продолжение «Поэмы экстаза», а вспышка света, вырвавшаяся из глубин его духа.
Только этот свет оказался слишком ярким. Скрябин смотрит на партитуру и не может разобрать ни строчки. Оглядывается на рояль и не видит его. Опускает взгляд на руки — и видит лишь мутную пелену.
Врачи твердили о нервах, истощении, переутомлении. Этот недуг действительно преследовал Александра, но чтобы ослепнуть?! К счастью, зрение вернулось к нему так же внезапно. Когда тьма отступила, он снова сел за рояль. Он не переставал работать ни на секунду — словно знал, что за то короткое время, что было отведено ему на Земле, нужно многое успеть.
«Так и горят подошвы»
Александр Скрябин родился в Москве в 1872 году в дворянской семье. Мать, талантливая пианистка Любовь Петровна Щетинина, умерла от чахотки, когда сыну едва исполнился год. Маленький Саша остался на попечении у отца, студента-юриста, в будущем — дипломата и действительного статского советника. Папа, находившийся на службе в Константинополе, практически не участвовал в жизни мальчика. Воспитание Александра взяли на себя бабушка и тетя по отцовской линии Любовь Александровна, ставшая его первой учительницей музыки.
С ранних лет Александр выделялся необычайной серьезностью и самостоятельностью. Он избегал детских игр и всяких шалостей, предпочитая занятия, требующие сосредоточенности. Саша рано освоил чтение и письмо без посторонней помощи, а еще постоянно мучил окружающих взрослых вопросами, а те только поражались интеллекту ребенка и его музыкальному таланту.
С пяти лет Саша уже вовсю играл на рояле, причем не по нотам, а на слух, импровизируя
Нотную грамоту Скрябин освоил лишь в подростковом возрасте — его ранние произведения рождались из интуитивного чувства звука. Рассказывали, что известный пианист Антон Рубинштейн, услышав эту музыку, посоветовал родственникам Скрябина, чтобы ребенка ни в коем случае не заставляли играть или сочинять, если у него не было на то желания. Возможно, он не хотел отбить у мальчика любовь к музыке.
Но опасения пианиста были напрасными. Музыка стала для Саши истинным отчим домом. Рояль был для него живым существом, от стонов которого (например, при перевозке инструмента на дачу) он искренне страдал. А в юности Саша засыпал с нотами любимого Шопена под подушкой. Бабушка сокрушалась, что ребенку приходилось часто менять обувь, — он попросту протирал ее педалями рояля: «Так и горят, так и горят подошвы!»
Несмотря на страсть к музыке, следуя семейной традиции, в 1882 году Скрябин поступил в 2-й Московский кадетский корпус. Слабый здоровьем и не блещущий физическими навыками, он сперва стал объектом насмешек со стороны других кадетов, видевших в нем «хилячка», — шутка ли, освобожден от муштры! Но вскоре все — и преподаватели, и даже самые задиристые одногодки — попали под обаяние его таланта. Скрябин импровизировал вальсы и мазурки, читал стихи, а мягкий характер и природная веселость сделали его всеобщим любимцем и душой компании.
«Рояль у него дышал»
Все время учебы в кадетском корпусе молодой Александр не переставал упорно заниматься музыкой, впитывал теорию как губка. В 1883-1884 годах он брал уроки фортепиано у педагога Георгия Конюса, а в середине 1880-х совершенствовал технику под руководством Николая Зверева. С 1885 по 1887 год Саша изучал теорию музыки с Сергеем Танеевым, который стал ключевой фигурой в формировании его композиторского мастерства. Танеев, известный виртуоз контрапункта, относился к ученику с отеческой заботой: возил его летом в деревню, а в Москве сопровождал с уроков домой. Несмотря на теплоту в отношениях, педагог, по воспоминаниям Александра, был строг — за плохую подготовку удваивал задания, что дисциплинировало юного Скрябина.
Еще до окончания кадетского корпуса в 1888 году Александр поступил в Московскую консерваторию. Ему пришлось балансировать между военной дисциплиной и творческой свободой: дни делились на строевую подготовку и занятия музыкой. Казалось бы, с такой нагрузкой Саша должен был расти замученным одиночкой, однако от друзей не было отбоя. Что, впрочем, отнимало все оставшееся скудное время.
Учеба в консерватории — не частные уроки
Александр быстро достиг своеобразной, даже виртуозной техники игры. Все это время он экспериментировал, создавал сложные звуковые слои при помощи педали, но в какой-то момент переусердствовал. Страсть к музыке привела Сашу к увечью: он переиграл правую руку. Для пианиста, а в особенности для человека с амбициями уровня Александра, это было настоящей трагедией. Пришлось очень долго восстанавливаться. Это ограничение, однако, обернулось творческим прорывом — Скрябин создал ряд выдающихся сонат для левой руки.

В ноябре 1888 года состоялся дебют Скрябина — его первое публичное выступление в Большом зале Благородного собрания. Музыкальная смелость Александра стала причиной конфликта с профессором композиции, отказавшимся допустить его к защите диплома. К 1892 году он окончил консерваторию — без документа о завершении образования, но зато с малой золотой медалью по классу фортепиано Василия Сафонова. Тот в свою очередь не мог найти для ученика достаточно комплиментов — только восхищался тем, как у юноши «рояль дышал».
Независимый путь Скрябина, проявившийся так рано, вскоре обернулся настоящей революцией в музыкальном языке XX века.
«Влюблен только в самого себя»
На исходе XIX столетия мир стоял на пороге грандиозных перемен. Скрябин ознаменовал этот поворот в музыке, отказавшись от традиционной тональности в пользу диссонансов и сложных гармоний. В 1892 году в издательстве Юргенсона вышел его первый вальс, в начале следующего года последовали этюды, мазурки и ноктюрны. Эти публикации не принесли Скрябину гонораров, но зато привлекли внимание публики к молодому композитору. Его авторский концерт 1894 года возмутил консервативную публику — музыка Скрябина звучала как вызов устоявшимся канонам, что спровоцировало настоящий скандал.
Финансовое положение Александру удалось поправить при помощи его благодетеля, мецената и музыкального издателя Митрофана Беляева. Высоко оценивая таланты юноши, он отправил его в европейское турне. Париж стал творческим прорывом: прелюдии в исполнении Скрябина покорили публику, а ноты раскупались с неожиданным ажиотажем. Европа, принесшая массу новых впечатлений, не только открыла ему новые горизонты, но и заставила его переосмыслить отношения с Россией. Вернувшись, он сблизился с кружком философов-символистов из Московского психологического общества и увлекся метафизическими изысканиями.
Тем временем у молодого композитора появились поклонники его музыки
Его буквально заваливали вопросами, где можно достать ноты. В этот период в творчестве Скрябина преобладали романтические фортепианные произведения. Он создавал этюды, ноктюрны, экспромты и прелюдии, в которых отражался весьма широкий круг настроений.
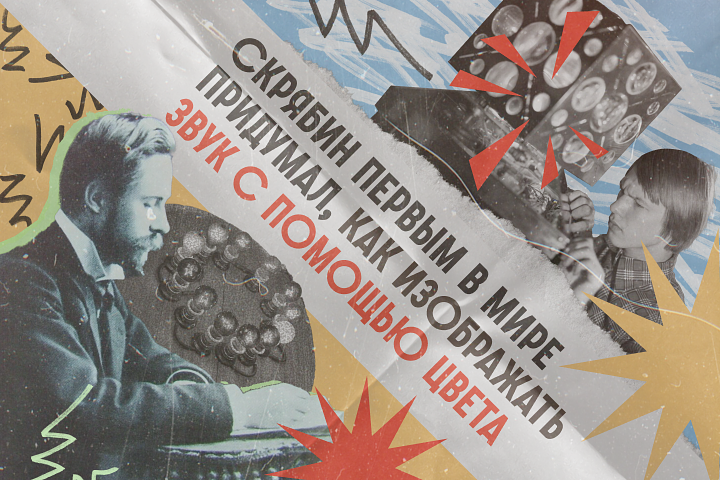
В 1897 году Скрябин женился на пианистке Вере Исакович, учившейся в то время в консерватории. Она происходила из знатной семьи, которая поддерживала этот союз. Позже Скрябин жаловался, что женился не по любви, а под давлением родных, стремившихся обуздать его богемный образ жизни. Уже тогда друзья композитора отмечали его несовместимость с супругой — впрочем, не из-за Веры, но из-за странностей самого Скрябина. В последовавшие годы супружеской жизни обнажились его любвеобильность, нетерпимость к чужой музыке, какой-то душевный диссонанс с женой. «Он совершенно открыто признает, что истинно влюблен только в самого себя», — вспоминал потом пианист Александр Гольденвейзер.
Тем не менее благодаря этому союзу Скрябин обрел стабильность, семью, детей, дом, а также место профессора в Московской консерватории. Денег за душой не было ни у кого у супругов, поэтому упорно трудиться приходилось им обоим.
Конец 1890-х и начало 1900-х стали периодом интенсивной работы. Скрябин создал Концерт для фортепиано с оркестром (1897), Третью сонату (1898), Первую (1900) и Вторую симфонии (1901), а также оркестровую прелюдию «Мечты». Композитор проводил концерты по всей России, исполняя свои сочинения. Его миниатюры, наполненные то меланхолией, то патетикой, продолжали традиции романтизма, тогда как масштабные сочинения уже предвещали радикальные эксперименты с формой и гармонией. Даже в академической среде, где профессор композиции отказал ему в дипломе, Скрябин оставался бунтарем, чье творчество опережало время и готовило почву для музыкальной революции XX века.
В семье почти ежегодно рождались дети. В 1898-м — Римма, в 1990-м — Елена, в 1901-м — Мария, в 1902-м — Лев.
«Бурно, глубоко, трагично»
Четыре ребенка в молодой и небогатой семье — не только счастье, но и подлинное испытание. Для Скрябина начало XX века ознаменовалось напряженными попытками балансировать между творческими амбициями и семейными обязанностями. Его супруга — талантливейшая пианистка — сдалась, пожертвовав сценой, по которой бесконечно тосковала. Но все же она с головой погрузилась в материнство. На Скрябина пала забота по обеспечению пропитания большой семьи. А денег все не хватало, порой критически. И с каждым годом эта проблема только усиливалась. Концерты и преподавание едва покрывали растущие расходы.
Парадоксально, но именно в эти непростые годы композитор совершил прорыв, перевернувший законы музыки
С 1900 по 1904 год он создал три симфонии, в которых отверг классическую тональность и ввел диссонансы как основу гармонии. Третья симфония, «Божественная поэма» (1904), стала манифестом его философских идей. Вдохновленный теософией Елены Блаватской и символистскими концепциями Владимира Соловьева, Скрябин представил музыкальное преображение хаоса в космос. Партитура, наполненная пространными ремарками вроде «бурно, глубоко, трагично» или «сверкая» и «еще более сверкающе», включала хор и орган, стремясь к сакральной монументальности.
«Божественную поэму» Скрябин писал почти три года, с 1902-го по 1905-й, успев за этот срок не только радикально сменить концепцию, но и поменять свое мировоззрение, друзей и даже семью. Знакомство с философом Георгием Плехановым привнесло в его мистицизм элементы марксизма. Скрябин загорелся идеей мистерии — грандиозного синтеза музыки, слова, света и даже запахов. Он верил, что такой синтез может даже изменить человечество. Все прежние сочинения, включая симфонии, композитор считал лишь ступенями, которые нужно было пройти, чтобы достичь амбициозной цели.
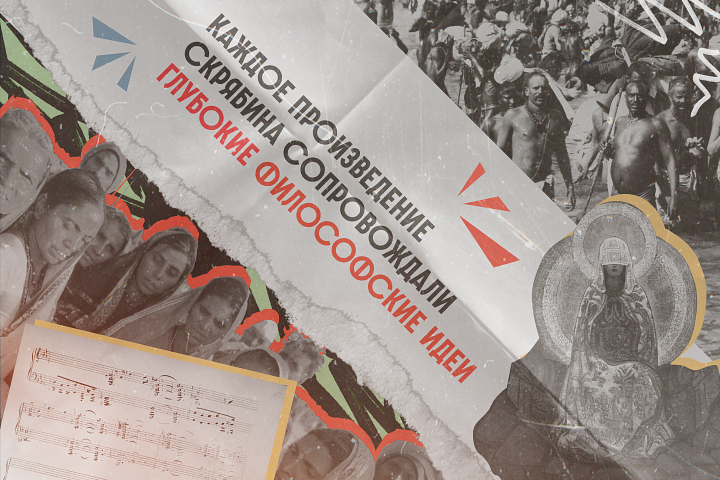
К 1905 году Скрябин окончательно отошел от романтических миниатюр ранних лет. Его симфонии с диссонансами и метафизическими программами предвосхитили авангард XX века. Даже критики, возмущенные разрушением гармонии, не могли отрицать: в музыке Скрябина звучал голос новой эпохи — тревожной, мятежной и бесконечно сложной.
Семейные конфликты нарастали, а Александр видел в них отражение своих философских изысканий. Его эгоцентризм усугублял разлад в семье — скоро он оставил Веру.
«Надмирная муза»
В 1902 году в жизни Скрябина наступил перелом: он встретил Татьяну Шлецер, племянницу профессора Павла Шлецера, у которого некогда училась его жена Вера. Татьяна, с юности боготворившая композитора, превратила свое восхищение в фанатичную преданность. Александр не смог устоять перед таким экспрессивным признанием своих талантов. Их отношения, начавшиеся платонически, быстро переросли в страстную связь. Скрябин, называвший любовь «химерой», увидел в Татьяне воплощение своей «надмирной музы» — она буквально молилась на него, слушая его речи, сидя перед ним на коленях с распущенными волосами.
Этот союз породил мучительный любовный треугольник
Композитор оставил жену с четырьмя детьми и в 1905 году уехал с Татьяной в Италию. Вера отказала ему в разводе, а смерть их старшей дочери Риммы в том же году восприняла как кару за его грехи. И знатно отомстила ему — вернулась на сцену и концертировала, играя произведения гениального супруга. Это подпитывало общественные пересуды и вызывало у Скрябина ярость.
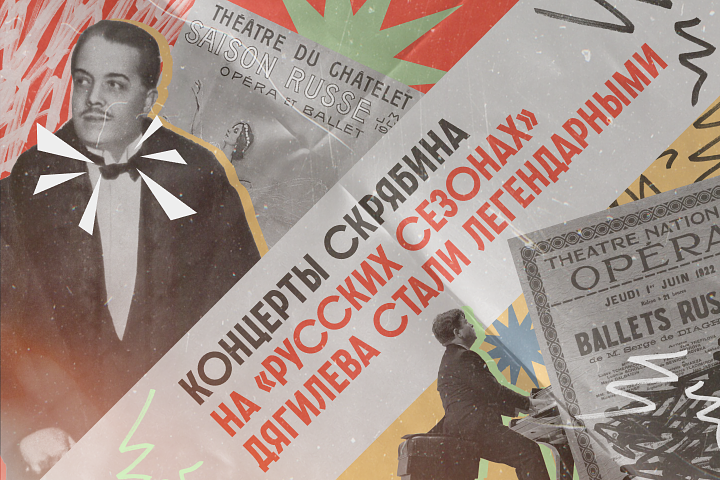
До конца 1900-х Скрябин с новой избранницей жил в Европе в гражданском браке. Финансовые трудности, и без того сковавшие Александра, теперь обострились — после смерти мецената Беляева, поддерживавшего композитора до своего самого последнего дня, Скрябин лишился столь необходимого источника денег. Кормить теперь приходилось не одну, а две семьи. У Татьяны тем временем родилась дочь Ариадна, и жившему в полной нищете Скрябину едва хватило на оплату акушерки.
Однако именно в этот период, с 1905 по 1907 год, он создал «Поэму экстаза» — симфонический манифест, где звучание оркестра было совмещено с поэтическим текстом о преображении духа через творчество. Премьера этой работы произвела фурор, а вслед за ней родилась Пятая фортепианная соната (1907), в которой Скрябин углублял идеи утонченного, обостренно-чувственного мировосприятия. Композитору на время удалось поправить свое финансовое положение, но такая напряженная и безостановочная работа многого ему стоила. Например, зрения.
«Артистическая деятельность призывает в Москву»
О странном недуге пишут лишь немногие биографы Скрябина, а официальные свидетельства скудны. Но, по-видимому, из-за переутомления и издерганных нервов Скрябин на какое-то время ослеп. Недуг настиг его внезапно и так же внезапно отступил. «Слава Богу, на этот раз обошлось без катастрофы», — писала домой Татьяна.
Семья тем временем продолжала неумолимо расти
В 1908-м у пары родился сын Юлиан, в 1911-м — дочь Марина.
Гастроли в США в 1908 году обернулись грандиозным скандалом. Татьяна, такая же любвеобильная и страстная, как и ее муж, оказалась не в силах вынести разлуку с ним и приплыла к Скрябину в Нью-Йорк. Однако в пуританской Америке их связь, не скрепленную официальным браком (Вера продолжала оставаться его законной женой), сочли неприемлемой. Композитору и его избраннице пришлось бежать из гостиницы под покровом ночи. Турне, начавшееся удачно, было прервано. Эти события, впрочем, лишь подогрели общественный интерес к личности Скрябина.

После нескольких лет жизни в Европе Александр Скрябин в 1910 году окончательно вернулся в Россию. Еще в декабре 1909-го он писал отцу из Брюсселя: «В Москву мы не только поедем, но даже поселимся там с будущего года, а может быть, и останемся теперь же. Меня призывает туда моя артистическая деятельность». Эти планы воплотились уже через месяц.
Несмотря на бурю в личной жизни и нечеловеческое напряжение в работе, композитор не прекращал стремиться к новым вершинам. Его музыка, насыщенная диссонансами и мистическими образами, бросала вызов традициям, предвещая авангард XX века. А потом Скрябин создал нечто, что эту новую эпоху в определенной степени ознаменовало.
«Мне нужна была лучезарная гармония»
Согласно мифам, Прометей, защитник и покровитель людей, похитил из горна бога Гефеста огонь, спрятав его в полом стебле тростника, чтобы передать человечеству. Огонь стал символом знания, технологий и цивилизации, позволив людям развиваться. Но поступок Прометея прогневил Зевса, и в отместку громовержец приковал титана к скале, ежедневно посылая к пленнику орла, который выклевывал ему печень. За ночь тело титана восстанавливалось, а с восходом солнца пытка начиналась вновь.
Этот миф Скрябин переосмыслил в своей музыкальной поэме «Прометей», также известной как «Поэма огня», объединив легенду, философию, мистику и технический эксперимент. Олимпийский огонь интерпретировался автором как огонь творчества, преображающего хаос. «Прометей — это ведь активное начало, творческий принцип, это отвлеченный символ. Ведь и тот, мифический Прометей — это только раскрытие этого символа, сделанное для первобытного состояния сознания», — говорил композитор.
Он работал над проектом с зимы 1910-го, а уже весной следующего года в Москве состоялось долгожданное первое исполнение. Партию фортепиано исполнял сам автор. Это было чуть ли не крупнейшим музыкальным событием года во всей стране.
Замысел Скрябина был грандиозным: показать торжество жизни, победу всесильной воли человека. Для этого ему необходимо было найти новые языковые средства. Композитор отказался от принятых норм гармонии и задумал использовать в своем представлении свет.
Мне нужен был свет в музыке, мне нужна была лучезарная гармония, которая бы отображала идею света
Это не было его личной выдумкой — стремление синтезировать звук и свет находилось в русле общего развития искусства на рубеже XIX — XX веков. И все же замысел оказался слишком громоздким и неподъемным. На премьере «Прометея» в 1911-м музыканты исполняли партитуру без света — аппарат для воплощения скрябинской идеи оказался слишком сложным, и его попросту не успели сделать. Цветовое исполнение прошло лишь через четыре года в Нью-Йорке в отсутствие автора.
Несмотря на успех очередной работы, здоровье композитора, подорванное годами напряженного труда и нервных потрясений, вновь начало давать сбои, предвещая трагический финал.
«Не человек, а лесной дух»
Кончина Скрябина, как и его творчество, обросла массой мифов. Он вернулся в Москву в 1911-м, а 27 апреля 1912-го въехал в квартиру в Большом Николопесковском переулке. Хозяин особняка предлагал Александру снять квартиру на пятилетний срок, но композитор настоял на сроке в три года, поскольку хотел вскоре уехать в Индию. Его планы оставались грандиозными — он работал над новым проектом, апокалиптической «Мистерией». Она еще и наполовину не была завершена, а о ней говорили все вокруг — о том, что Скрябин готовит действо с участием тысяч музыкантов в храме-сфере на берегах Ганга, которое должно было преобразить мир через слияние Духа и Материи, а то и обрушить на него конец света в 1917 году.
Так или иначе, этот проект, задуманный Александром, стал финальной целью его жизни
Скрябин, при всей своей мистической смелости, был мнительным — боялся микробов, отказывался от еды, упавшей с тарелки на стол, пытался изо всех сил избежать встречи с вездесущими бациллами. По иронии судьбы именно незначительная бытовая травма оборвала его жизнь.

В апреле 1915 года композитор неаккуратно выдавил фурункул на губе, и вскоре у него началось заражение крови. Болезнь протекала стремительно — всего через несколько дней Скрябин умер от сепсиса. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет 27 апреля 1915 года — день в день окончания срока аренды квартиры.
На этом трагические совпадения не закончились. Вскоре при невыясненных обстоятельствах утонул его талантливый юный сын Юлиан, а обе спутницы жизни — Вера Исакович и Татьяна Шлецер — скончались от воспаления мозга через несколько лет. Грандиозная утопическая «Мистерия» так и не была завершена — композитор оставил после себя лишь ее эскизное воплощение.
***
В истории музыки Александр Скрябин остался дерзким визионером, для которого искусство послужило инструментом космического преображения. Он не просто изобрел новые техники, но создал новый язык. Жанровые разграничения в его творчестве потеряли всякий смысл.
Скрябину всегда было мало собственных достижений. Он не останавливался на достигнутом даже для того, чтобы отдохнуть, — после воплощения одного грандиозного замысла тут же брался за другой, еще более амбициозный. Казалось, этот человек может заставить звучать в унисон звезды. Многие его поклонники считают, что это действительно было так — и именно потому судьба распорядилась этого не допустить.
Скрябин не просто сочинял музыку — он стал мифом своей эпохи. Поэт Константин Бальмонт утверждал, что, когда тот начинал играть, «из него как будто выделялся свет, его окружал воздух колдовства».
Чудилось, что не человек это, хотя бы и гениальный, а лесной дух, очутившийся в странном для него человеческом зале, где ему, движущемуся в ином окружении и по иным законам, и неловко, и неуютно
Скрябин — редкий художник, для которого искусство было не только смыслом жизни, но и самой жизнью. Его эксперименты со звуком и цветом были по достоинству оценены уже новыми поколениями музыкантов и композиторов — в любви к Скрябину признавались чуть ли не все авангардисты второй половины ХХ века. И каждый раз, как только в том или ином заведении начинает в тон музыке меняться палитра светового оформления, где-то на берегах Ганга наверняка начинают заходиться в танце духи, вызвать которых для переустройства Вселенной он так мечтал еще в начале 1910-х.
