
Художник земли русской. Как Василий Суриков вырвался из бедности и превратил историю России в картины-блокбастеры?
11:45, 6 августа 2025Среди множества ярких фигур отечественной живописи Василий Суриков стоит особняком — он не только был самобытным автором, удивлявшим современников яркостью красок и размахом полотен, но и выбрал судьбу художника, все силы которого брошены на описание России. Подобно сюжетам его главных картин, посвященным переломным эпизодам истории страны, жизнь великого живописца была полна лихих поворотов. На своем пути Суриков познал и отказы, и разочарования, и насмешки, и личные трагедии. О создателе «Боярыни Морозовой» и «Утра стрелецкой казни» рассказывает материал «Ленты.ру» из цикла «Жизнь замечательных людей».
Художник Вася Суриков, крепко сбитый молодой человек среднего роста с русыми коротко стриженными волосами и редкой бороденкой, с трепетом зашел в кабинет инспектора Шренцера. После пары дежурных вопросов Шренцер спросил: «А где же ваши рисунки?»
Суриков объяснил, что рисунки были отправлены губернатором Замятиным и должны находиться в академии. Инспектор долго рылся в вещах, наконец нашел нужную папку и внимательно перелистал работы. Детские эскизы были сделаны с величайшим творческим рвением, но Шренцера они не впечатлили: «Это ваши работы? Да за такие рисунки вам даже мимо академии надо запретить ходить».
У Сурикова душа в пятки ушла. Но надежда еще тлела — Василия все же допустили до экзаменов. Однако трескучий академик Бруни, взглянув на вступительное испытание художника, повелел отказать в приеме.
Юноша вышел на улицу из здания Академии художеств. Был весенний и теплый день. Нева уже очистилась ото льда. Горе-абитуриент подошел к набережной, взял свой неудачный вступительный рисунок, порвал его на мелкие кусочки и бросил в темную воду.
Провал, впрочем, хотя и расстроил, но не остановил молодого живописца. Из всей этой ситуации он в дальнейшем будет жалеть лишь о том, что не забрал у Шренцера свои старые работы: «Так у него все эти рисунки и пропали. А дивные, помню, рисунки были. У меня только три сохранились».

Через несколько десятилетий после этих событий Суриков заставит говорить о своих картинах всю Россию. Коллекционировать его работы одну за другой будет сам император Николай II. Но обо всем по порядку.
«На стульях рисовал, пачкал»
Василий Иванович Суриков родился в 1848 году в Красноярске в семье чиновника, чьи корни уходили в старинное казачество. Отец Иван Васильевич, потомок старинного казачьего рода, служил коллежским регистратором. В честь одного из его родственников, атамана Енисейского казачьего полка Александра Сурикова, назван остров Атаманский на Енисее.
Со всех сторон я природный казак… Мое казачество более чем 200-летнее
Детство Васи прошло в селе Сухой Бузим, где служил его отец. С раннего возраста он познал суровость дикой природы: снега в Сибири лежали по полгода, а жила семья в деревянной избе. «Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства; она же дала мне дух, и силу, и здоровье», — говорил он.
Суриков потерял отца, когда ему было всего шесть лет. После потери кормильца семья бедствовала, но мать Прасковья Федоровна, несмотря на нужду, разглядела в сыне талант и отправила его учиться. Уже в юном возрасте он полюбил рисовать углем, а сибирские просторы — бескрайние, как сама история, — стали его первыми учителями.
«Рисовать я с самого детства начал. Еще, помню, совсем маленьким был, на стульях сафьяновых рисовал, пачкал», — признавался Суриков. Говорят, даже в самых ранних его работах проступала та самая эпическая широта, что потом покорит Россию.

«Провалили самого лучшего ученика»
В десять лет Суриков поступил в красноярское уездное училище, а окончив его, пошел было по стопам отца и встал на путь чиновничьей карьеры. Его приняли писарем в губернское управление. Но в свободное время юноша продолжал заниматься любимым делом — рисовать. Первым учителем начинающего живописца стал художник Николай Гребнев.
В четырнадцать Василий написал «Плоты на Енисее» — еще робкую, но уже полную жизни работу, самую раннюю из своих датированных картин. Широкие мазки передавали необъятные сибирские просторы, а вдалеке, у горизонта, таял розовый свет заката.
Мальчиками мы, купаясь, чего только не делали. Под плоты ныряли: нырнешь, а тебя водой внизу несет
Возможно, благодаря этой картине талант молодого художника был замечен губернатором Павлом Замятниным. Пораженный мастерством юноши, он свел его с золотопромышленником Петром Кузнецовым, который согласился стать патроном Сурикова и оплатил ему обучение в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге.
И вот осенью 1868 года Суриков с котомкой за плечами и рекомендательным письмом сошел на перрон столичного вокзала, где его встретил шум незнакомого города — огромного, как будущая известность и слава этого художника. Но о том, какой путь ему уготован, Василий пока даже не подозревал.
«Вот четыре дня, как я в Петербурге и смотрю на его веселую жизнь. Теперь идет Масленица, и народ просто дурит. Народ и в будни, и в праздники одинаково движется. Я несколько раз гулял и катался по Невскому. Как только я приехал, то на другой день отправился осматривать все замечательности нашей великолепной столицы. Был в Эрмитаже и видел все знаменитые картины, потом был в Исаакиевском соборе и слышал певчих митрополита», — писал Суриков домой.
Первое поступление в академию новоявленный художник с треском провалил и был вынужден несколько месяцев учиться в рисовальной школе Общества поощрения художников. Казалось, что мечты рассыпались в прах. Но сибиряк не сдался. В августе 1869 года Суриков сдал экзамены и был принят в Академию художеств вольнослушателем, а уже в 1870 году стал наконец воспитанником в классе Павла Чистякова. Тогда же была закончена его первая взрослая работа — «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге». Ее приобрел меценат Кузнецов, продолжавший поддерживать юное дарование.

«Я поступил в Академию в начале сентября и теперь каждое утро подымаюсь со своей теплой постели в 8 часов и храбро шагаю по роскошным, да только грязным по случаю сентября петербургским улицам на Васильевский остров в Академию на утренние лекции. Приходится сделать в день верст шесть, так как еще вечером хожу в Академию в рисовальные классы, да это ничего — и не заметишь, как пролетишь их. Расстояние здесь ничего не значит», — рассказывал Суриков в письмах любимой матери.
Дипломная работа Сурикова «Апостол Павел объясняет догматы веры…» должна была открыть ему дорогу в Европу. Но академия по неясным причинам лишила его заслуженной поездки, называемой пенсией. Наставник Сурикова профессор Павел Чистяков в ярости писал в одном из писем: «У нас допотопные болванотропы провалили самого лучшего ученика во всей Академии, Сурикова, за то, что мозоли не успел написать в картине. Не могу говорить, родной мой, об этих людях: голова сейчас заболит…» Когда профессора, спохватившись, предложили таки отправить Василия за границу, гордый выпускник отверг подачку.
Через пару лет после окончания академии он решил отправиться в Москву — там, вдали от академической среды, среди покосившихся и низких домов, полных истории, он принялся неустанно трудиться.
Приехавши в Москву, попал в центр русской народной жизни, сразу стал на свой путь
«Оригинальнее Москвы не встретил ни одного города»
«Я все еще живу в Москве и работаю в храме Спасителя. Работа моя идет успешно. Думаю в этом месяце кончить. Жизнь моя в Москве очень разнообразная — днем работаю или иногда хожу в картинные галереи. Видел картину Иванова "Явление Христа народу", о которой, я думаю, ты немного слышал. На днях ходил на Ивана Великого, всю Москву видно, уже идешь, идешь на высоту, насилу выйдешь на площадку, далее которой не поднимаются», — писал Суриков на родину о своей новой жизни в большом городе. Молодой художник восхищался колоколами и историей, которой полнилась Белокаменная.
В январе 1878 года Суриков женился на Елизавете Шаре — внучке декабриста Петра Свистунова. Это был выгодный для Василия брак — Шаре также являлась младшей дочерью француза Августа Шаре, владельца предприятия по продаже почтовой бумаги. Несколько лет Суриков писал четыре фрески на тему Вселенских соборов для храма Христа Спасителя. В этих сюжетах ранние христиане определяли природу Иисуса, отделяя истинное учение от ереси. Поначалу он был воодушевлен задачей, пожелав изобразить драматическую и полную страстей сцену, но вскоре его энтузиазм разбился о непробиваемых заказчиков: «Если будете так писать — нам не нужно».

Завершив труд, больше Василий никогда не писал на заказ. Теперь он мог позволить себе заниматься тем, к чему лежала душа. Так родилось «Утро стрелецкой казни», на котором живописец изобразил расправу с участниками бунта 1698 года. Царское войско попыталось устроить переворот, свергнув молодого Петра I и присягнув его сестре Софье, но мятеж был подавлен. Именно это Суриков, по его словам, услышал от Кремлевских стен, которые допрашивал. «Однажды иду я по Красной площади, кругом ни души… И вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что даже сердце забилось», — вспоминал он.
Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина
Полотно произвело фурор в художественном сообществе. По его завершении Сурикова моментально приняли в Товарищество передвижных художественных выставок. Вскоре он уже был погружен в новый проект — изобразил фаворита Петра I Александра Меньшикова, которого за интриганство отправили в ссылку под Березов.
Картину, представленную на XI выставке Товарищества передвижников, купил Павел Третьяков, благодаря которому у художника появились деньги на путешествие по Европе. Суриков отправился в поездку по Германии, Австрии и Франции. «Если бы ты знал, какая суматоха в Париже, так ты бы удивился. Громадный город с трехмиллионным населением, и все это движется, говорит, не умолкая», — писал 35-летний художник брату.
Был проездом в Берлине, Дрездене, Кельне и других городах на пути в Париж. Останавливался там тоже по нескольку дней, где есть картинные галереи. Жизнь уж совсем не похожа на русскую. Другие люди, обычаи, костюмы — все разное. Очень оригинальное. Хотя я оригинальнее Москвы не встретил ни одного города по наружному виду
А вернувшись, принялся за третье великое полотно — «Боярыню Морозову». Каждый образ на нем художник тщательно прорабатывал, но долго не мог найти лицо для главной героини, пока не вспомнил черты своей тетки Авдотьи Торгошиной: та же аскетичная форма лица, горящие фанатичным блеском глаза, тонкие, словно вырезанные из кости, пальцы, сложенные в двуперстие.
Сюжет картины уходит корнями в XVII столетие, когда реформы патриарха Никона раскололи Русь надвое. Боярыня Морозова, одна из самых влиятельных женщин при дворе, поддержала мятежного протопопа Аввакума и отказалась предать старую веру — и царь Алексей Михайлович обрек ее на заточение, где она и скончалась, так и не предав свои убеждения.
Когда в 1887 году полотно представили на выставке передвижников, реакция была неоднозначной: одни восхищались мощью композиции, другие ворчали, что от пестроты народных одежд «рябит в глазах». Однако Владимир Стасов, главный критик всея Руси конца XIX столетия, был в восторге. Он назвал «Боярыню Морозову» чуть ли не величайшей исторической картиной за все время существования передвижных выставок: «Я весь день под таким впечатлением от этой картины, что просто сам себя не помню. Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал».
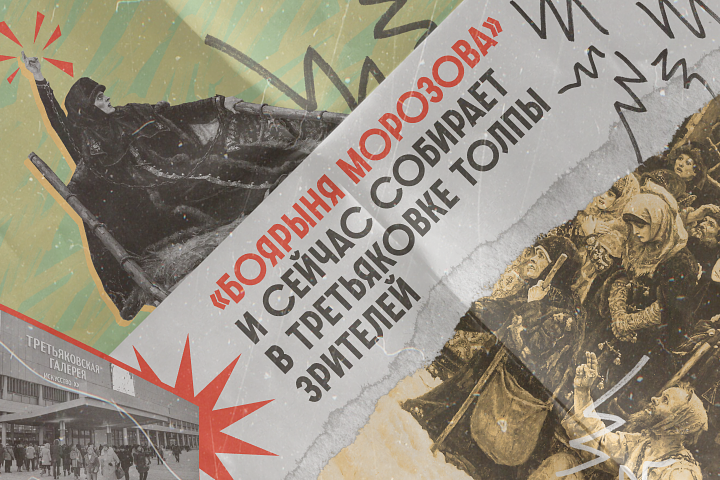
Эту картину и по сей день многие называют вершиной творчества Сурикова, к которой он впоследствии не приблизился. На то были трагические причины — после завершения «Боярыни Морозовой» умерла его жена.
«Жизнь моя надломлена»
Семья была для Сурикова тихой гаванью среди бурь творчества. Вскоре после свадьбы жена родила ему двух дочерей, Ольгу и Елену. Суриков души в них не чаял и часто изображал на своих этюдах. Но счастье длилось недолго. Весной 1888 года Елизавета Августовна заболела — врачи диагностировали скоротечную чахотку. Не помогли лучшие доктора, которых нашел любящий супруг. Она угасала на его глазах. Художник, привыкший побеждать в искусстве, оказался бессилен перед смертью.
Ее не стало в апреле 1888 года в возрасте 30 лет
В браке с Василием она прожила лишь десятилетие.
Смерть жены привела Сурикова к тяжелому душевному кризису. Бессонные ночи, ранний подъем, ноги сами несли его сперва в церковь, на службу, а затем к жене на кладбище. Даже краски казались ему бессмыслицей — долгое время он не мог притронуться к кистям. «Жизнь моя надломлена; что будет дальше, и представить себе не могу», — писал он брату Александру в Красноярск. Брат зазывал его приехать домой. Он согласился.
Василий уехал в Красноярск с дочерьми. Там, у брата, Суриков прожил до осени 1890 года. Родные края, видимо, быстро залечили открытую рану — художник развил невероятную деятельность.
В Красноярске он написал картины «Исцеление слепорожденного Иисусом Христом» и «Взятие снежного городка». За последнюю Суриков получил именную медаль на Международной выставке в Париже в 1900 году. Любопытно, но традиция брать снежный городок, бывшая в почете у сибиряков, к 1880-м уже угасла. Чтобы найти натуру, Суриков с братом проставили жителям села Ладейки три ведра водки, чтобы те разыграли забаву. Затея удалась настолько, что братья затем неоднократно устраивали похожие игры во дворе своего дома.
На родине Суриков также начал писать этюды для следующей большой картины «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Пейзажи он искал на реке Обь, а завершил свое произведение на Дону.
1893 год стал для Сурикова вехой, когда он добился официального признания талантов — его избрали действительным членом Императорской академии художеств. Но Суриков не был бы Суриковым, если бы остановился на достигнутом.
«Покорные слову полководца, идут»
Василий Суриков продолжает писать исторические полотна с новыми силами. В 1895-м была завершена работа, начатая еще в красноярский период, — «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Сюжет картины изображает битву за Сибирь в 1582 году, когда казачья дружина Ермака столкнулась с войском татарского хана Кучума. Художник перенес сражение на воды реки Иртыш. «Хотелось передать, как две стихии встречаются», — рассказывал он о работе. И на этом его бурная деятельность, конечно, не остановилась.
Я задумал новую картину писать. Тебе скажу под строжайшим секретом: «Переход Суворова через Альпы». Должно выйти что-нибудь интересное. Это народный герой
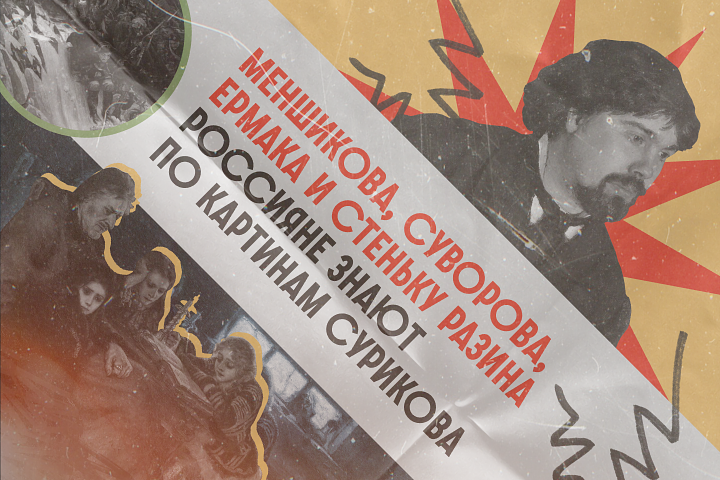
В 1899-м он закончил «Переход Суворова через Альпы», еще одно историческое полотно, рассказывающее о подвиге суворовских войск в сентябре 1799 года, когда Россия в союзе с Австрией воевала против Франции. «Главное в картине — движение. Храбрость беззаветная. Покорные слову полководца, идут», — объяснял художник. Обе картины понравились императору Николаю II, который заплатил за них десятки тысяч рублей. Василий Суриков стал придворным императорским живописцем.
А в 1906 году родилась картина «Степан Разин» о казачьем атамане, который заправлял крупнейшим в России народным восстанием. Однако она привычного фурора не произвела.
Про работы Сурикова ходит такая присказка за авторством поэта Максимилиана Волошина: «"Стрельцов", "Меншикова" и "Морозову" он не мог не написать, "Ермака" он смог написать, "Суворова" мог и не писать, а "Стеньку" не смог написать, в чем сам признавался».
В 1907 году Василий Суриков покинул Товарищество передвижников, сотрудничество с которым стало для него убыточным, и присоединился к Союзу русских художников. Это был осознанный шаг не только с финансовой точки зрения: он искал новую свободу в творчестве, уйдя от жестких рамок передвижничества, ставших для него удавкой.
В поздние годы Суриков обратился к камерной исторической сцене. В 1912 году он написал свое последнее значительное полотно «Посещение царевной женского монастыря». У нее, в отличие от предыдущих крупных картин, не было привязки к историческому событию.
Последние годы Суриков провел между Москвой и Красноярском, где у него сохранился родовой дом. Сибирская природа, знакомые с детства пейзажи и родные края придавали ему сил, чтобы продолжать рисовать. Он писал портреты близких и пейзажи, но за большие исторические сюжеты больше не брался. В Москве художник скитался по разным адресам, не имея постоянного угла. Конечно, по адресам не случайным — то были дорогие, комфортабельные и меблированные комнаты. И всюду он возил большой старый кованый сундук, в котором хранились рисунки, эскизы, бумаги, любимые вещи. Это была жизнь настоящего кочевника.
К 1915 году здоровье Сурикова резко ухудшилось. Врачи диагностировали сердечную недостаточность. Художник уехал лечиться в Крым, но потом, вернувшись в Москву, слег окончательно. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет в марте 1916 года, незадолго до того, как ушла в небытие и империя, историю которой он прославлял в своих картинах.
***
Василий Суриков — художник своей эпохи. Это было время широких жестов, надрывного драматизма и великого бунтарства. Бунтарем был и сам Суриков, отказавшийся от парадных сцен в пользу подлинной народной драмы.
Его картины — словно кадры из фильмов, причем не скучных мелодрам, а эпических боевиков. Это еще и эмоциональные порталы в прошлое: чутко чувствуя нужные типажи, живописец изображал на своих полотнах не только исторические события, но и психологическую драму. Вероятно, творчество художника оказало влияние и на российскую живопись, и — через десятилетия — на кинематограф.
Как когда-то написал Максимилиан Волошин, судьба определила Сурикову расправляться со стрельцами, совершать переходы через Альпы, завоевывать Сибирь и грабить персидские царства, но не с казацкой шашкой в руке, а с кистью и карандашом. И из того, что было предопределено художнику судьбой, он вынес все, что мог, осуществил все, на что был способен, пережил то, что хотел, и «ни разу не изменил ни самому себе, ни своей древней родовой мудрости».
